Никакая сила на Земле не заставит меня есть моих братьев и сестер (mp3. 5:45 мин. 1,35Мб).
Записала Юлия Гайворонская (30 ноября 2008 г. Второй Международный кинофестиваль «Ступени». Киев).

Илона Гонсовская. Юрмала, 2008 год.


В продолжение темы...
Писатель Эдуард Геворкян говорит:
"я всего лишь несколько раз встречался с ним в ЦДЛ, о чем говорили, не помню, бухали сильно... помню, А.Н. очень тепло о нем отзывался, и Шура Мирер тоже...творчество Гансовского сильно повлияло на меня в школьные годы, а его рассказ "Миша Перышкин и антимир", прочитанный в начальных классах, привел к увлечению физикой и, в итоге, поступлению на физфак  впрочем, и поздние вещи Гансовского производили весьма сильное впечатление..."
впрочем, и поздние вещи Гансовского производили весьма сильное впечатление..."
******
А мой соавтор по "Книге о Прашкевиче" Саша Етоев сегодня прислал мне мейл, в котором сообщает, что было ему письмо от писателя Леонида Юзефовича. Юзефович, хорошо знавший Гансовского, узнал, что я собираю материалы о нём, и пообещал свои воспоминания...
******

Север Гансовский и Сергей Снегов. Одесса. 1988 г. 8 г.
 впрочем, и поздние вещи Гансовского производили весьма сильное впечатление..."
впрочем, и поздние вещи Гансовского производили весьма сильное впечатление..."
 впрочем, и поздние вещи Гансовского производили весьма сильное впечатление..."
впрочем, и поздние вещи Гансовского производили весьма сильное впечатление..."

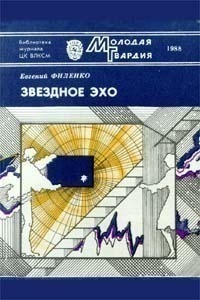

Продолжая свои попытки раскопать хоть что-нибудь новое о Севере Гансовском, я обратился сегодня к писателю Евгению Филенко, благо он у меня во френдах, со следующим вопросом: "Гансовский написал небольшое предисловие к Вашей книге "Звёздное эхо". Почему именно он это сделал? Может быть, Вы напишите несколько слов о Севере Феликсовиче?"
И вот он - оперативный ответ-минимемуар Евгения Филенко:
"Север Феликсович Гансовский приходил в Союз писателей РФ на обсуждение моей первой книги. Это было в 1985 или 1986 году. Из-за безобидного в общем-то пустяка, "Саги о Тимофееве", затеялась нешуточная разборка. В Перми мою книгу к изданию запретили, а прознавшее о том руководство Малеевских семинаров (Виталий Бабенко, Нина Матвеевна Беркова) встало за меня горой, инициировало специальное заседание Совета по приключениям и научной фантастике и выкатило тяжелую артиллерию — Гансовский, Дмитрий Александрович Биленкин, Леонид Юзефович... Зиновий Юрьев нашел время поддержать меня во время визита в Пермь. С этой книжкой вообще было интересно, но это отдельная тема.
Север Феликсович тогда выглядел впечатляюще — в моем измененном от эмоциональной перегрузки сознании это был типаж безумного ученого из старых американских фильмов. Худой, даже изможденный, с экзальтированными интонациями и широкими жестами. Мне запомнилась одна фраза из его короткой энергичной речи: «Я прочел этот рассказ... и я его ВОСПЕЛ!» Не очень помню, о каком рассказе шла речь, и был ли то предмет для воспевания, но общий эмоциональный накал выступления, как представляется, поверг оппонентов в жестокий когнитивный диссонанс. Потом были ободряющие слова в кулуарах... но, повторюсь, в тот час я был слишком потрясен, чтобы помнить детали.
Не сразу, но артподготовка принесла свои плоды, первая книга ушла в производство. Одновременно, по закону парных случаев, безо всяких уже затруднений возникла вторая книга «Звездное эхо», и встал вопрос о предисловии за подписью признанного мастера. У Севера Феликсовича было испрошено позволение использовать фрагмент его рецензии на мои скромные опусы той поры, и он таковое позволение с готовностью дал. Нет нужды говорить, насколько весома была В ТО ВРЕМЯ деятельная и доброжелательная поддержка со стороны писателя ТАКОГО МАСШТАБА, такого таланта и безусловного авторитета."
**********
Речь идёт вот об этом дебютном авторском книжном дуплете Е.Филенко, состоящемся в 1988 году. Книжки сейчас лежат передо мной:

Предисловие С. Гансовского к сборнику Е.Филенко "Звёздное эхо":
Писательский талант состоит, видимо, в умении выделить из непрерывного потока жизни сюжет с началом и концом, суметь освободить его от случайного и постороннего для главной мысли, придать частным обстоятельствам всеобщую значимость, высказать своим реалистическим повествованием или фантастической выдумкой свою оценку жизни. Ведь все мы живем, все кое-что знаем, но не у каждого есть уменье изложить свое знание средствами искусства, то есть образами. Евгений Филенко может делать это достаточно убедительно.
Язык автора богат ассоциациями, в нем естественно соединяются ирония и задушевность, бытовая речь и научная терминология.
В мягкой, ненавязчивой манере произведения Е. Филенко твердо заявляют, за что стоит и против чего выступает автор. Плоть его прозы такова, что, не нарушая общей спокойной тональности в изображении сегодняшнего мирного дня, она доказывает вместе с тем, что и сейчас (может быть, как никогда за последние десять-пятнадцать дет) драма решения не отменяется, поиск самореализации насущен, общественное действие необходимо. Отсюда возникает то важное, что способно давать искусство, — нравственная матрица, которую читатель, закрывший последнюю страницу, сможет впоследствии приложить к ситуациям иного масштаба и иного толка.
Север ГАНСОВСКИЙ
Фрагменты из интервью дочери Севера Гансовского, художницы Илоны Гонсовской, в которых упоминается её отец:

Пусть будет много разных жизней!
«Национальность» моя — морская. Отец был матросом в Мурманске, дядя воевал на Северном море. Без моря мне нечем дышать. Вспоминаю, как увидела его впервые — в Латвии, в Дубулты…
Мне лет пять. Идем с отцом по песчаной дорожке в дюнах. Запах горячего песка, трав. Нарастающий шум. Делаем еще десять шагов — море открывается внезапно. Синее и свежее, ветер и белые гребни волн до горизонта. У меня останавливается дыхание. Образ на всю жизнь остался ошеломляющий, словно воспринятый глазами первого человека.
Отец жил и работал в Москве, но его мать — моя бабушка — была латышкой из Лиепаи. Наша семья никогда не теряла связи с Латвией, тем более что родная сестра отца, Вероника Феликсовна Гансовская, жила в Риге. В 1958 году она вышла замуж за писателя Валентина Пикуля и прожила с ним двадцать пять лет — это был лучший период в творчестве Пикуля. В детстве и юности я подолгу жила у дяди Вали и тети Вероники в Риге и на острове Булли, где они много лет подряд снимали в качестве дачи часть домика у латышской семьи.
.....
Историческое, коротко. Ленинград, 1941 год, блокада. Дом на 1-й Морской улице. Голод. Мой отец (студент тогда) на фронте, дома — его сестра, младший брат и бабушка (мать уже погибла в лагере, отец пропал без вести). Еще есть кошка Мурыся. Она выдвигается на поиски еды через кухонную форточку, которая, так же, как во всех квартирах этого старинного дома, выходит на лестничные площадки. Когда однажды странный грохот и стук встревожил обитателей квартиры, они на ватных от голода ногах потащились на звук. Через форточный проем с вытаращенными глазами, карабкаясь, скрежеща по стеклу когтями, пытается попасть домой Мурыся с огромным батоном копченой колбасы... Где этот батон был взят — неизвестно. Однако известен такой факт: во время Ленинградской блокады люди, семьи, которые не съели своих животных, а делились с ними едой, как правило, выживали. Забота о других дает силы перенести трудности…
***************
ИЛОНА ГОНСОВСКАЯ: «Я НЕ ЕМ СВОИХ МОДЕЛЕЙ…»
ВИТА: Илона, твоё веганство и жёсткие принципы в отношении прав животных хорошо известны многим. Как ты к этому пришла?
Илона: Отец (от ред.: известный писатель-фантаст Север Гансовский) очень любил животных, относился к ним с глубоким сочувствием. В нашем доме всегда присутствовала, в той или иной степени, тема вегетарианства. Тогда – в советские времена, жизнь была вообще другая, вегетарианцев вокруг не было никого, информации на эти темы – тоже никакой. Первая книжка по проблемам нравственности в широком смысле, которую дал мне прочесть отец - сочинение французского писателя Веркора «Люди или животные».
В произведениях отца часто возникали персонажи – НЕ ЛЮДИ… Змея, рыбы, птицы, доисторические существа. Ко всему живому, он относился в равной степени с уважением, внимательно и осторожно, чтобы не навредить. В деревенских записях-планах отца я как-то встретила фразу: «… понедельник: спасти калину на болоте».
ВИТА: Значит, направление задал отец…
Илона: Во время войны, на фронте под Ленинградом отец был серьёзно ранен и, молодым человеком, как инвалид войны, попал в Казахстан, работал на конном заводе. У него была там нежная дружба с конём... Позже появился рассказ «Двое» и киносценарий, где, кроме хроники того времени, описаны очень близкие, дружеские, партнерские отношения человека с лошадью.
Конечно же, отец открыл для меня взгляд на мир – как на прекрасный общий дом – дом для всего живого, а не только для человека.
.............
...Я помню - даже взяла с собой портрет нашей собаки. Его, этого огромного простого пса, который потом у нас жил, взял из этого пункта из клетки, предназначенной на уничтожение животных, мой отец.
Приехал туда с котом, к ветеринару. Увидел и не выдержал, забрал и привез домой. Мама вскипела против того, чтобы этого грязного и больного зверя вымыть в ванне. Отец разозлился и поздно вечером уехал его мыть к Симоне Бурлюк (племянница Давида Бурлюка).
....
ВИТА: В вашей семье даже хранилась коллекция кошачьих усов…
Илона: Она сейчас со мной дома - в Риге. Это семейная реликвия. Ей уже лет 30. Усы начал собирать отец. У него был черный письменный стол, на чёрном - хорошо видно.
А было так. Наши коты и кошки всегда одобряли, когда отец работал: сидели на столе, следили за буквами, выскакивающими из пишущей машинки, поправляли лапой. Чистились тут же, мылись. А усы ведь – линяют, как шерсть. И время от времени – везло: выпадал прекрасный ус, и коллекция пополнялась. В девяностых годах я ее представила, как объект концептуального искусства – с псевдо-научным забавным сопроводительным текстом. Серьезные немцы хотели её довольно дорого, по тем временам, купить, но я прославилась на тот момент своим отказом ее продать. Все годы продолжаем собирать. Если ты настроен на усы – ты обязательно находишь и получаешь приз. Теперь усов уже много – даже наши друзья из Польши присылают польские усы!
....
ВИТА: Нас очень поразил тот факт, что когда мы собирали подписи против выставки с расчленениями, один известный художник, который сначала подписал воззвание, услышав о том, что это всё проходит в галерее Айдан Салаховой, начал судорожно вымарывать свою подпись.
Илона: Он – который себя вычеркнул – мелковат... Это пример проявления холуйского сознания.
А насчет «известности»... Во-первых, для меня не безразлично – чем ты известен. Во-вторых, я росла в среде, где работали - не скажу «известные», а «знаменитые» люди. Например, мой дядя – писатель Валентин Саввич Пикуль, к которому можно по-разному относиться, он в историческом жанре фигура неоднозначная, но он – Фигура с большой буквы. Отец мой - Север Феликсович Гансовский - классик в жанре фантастической повести. Я видела и знаю, как ведут себя и как работают по-настоящему стоящие люди. Сколько в них было культуры, такта, как они были милосердны, как светлы были идеалы – не сиюминутные, ни в коем случае не социалистические, а идеалы высшего порядка.
Это были интересные люди. Яркие. СИЛЬНЫЕ ОДИНОЧКИ. А то, что сейчас происходит на арене арт-бизнеса – мне глубоко не интересно. С финансовой поддержкой малокультурных бизнесменов - сегодня все пути открыты: прикормлены искусствоведы, в прошлом воспевающие соцреализм, а теперь только «модное» и плохопахнущее. И чем более противно пахнет – тем моднее.
Поскольку я в последние дни несколько погрузился в воспоминания о Севере Гансовском и события, связанные с его жизнью, то листал вчера его книжки... И обратил внимание, что фильм "Области тьмы" (2011) с Брэдли Купером режиссёра Нила Бёргера по сути является абсолютной калькой с замечательного рассказа Гансовского "Пробуждение" (1969).
Серый "зауряд" при случайной встрече получающий некую таблетку в пакетике, пронзительное ощущение новизны и яркости мира, пробуждение мозга, который вдруг заработал на двести процентов, сверхспособности... А обстоятельства вокруг происходящего в рассказе и фильме отличаются лишь местом и временем.
Фильм мне тоже понравился.
См. трейлер:
http://lartis.livejournal.com/763006.html

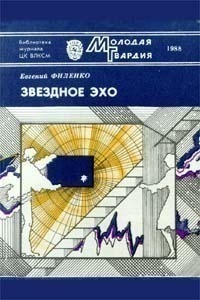
 В начале мая в рамках проведения "Интерпресскона-2012" будут названы лучшие художники в двух номинациях: "Обложка" и "Внутренние иллюстрации".Лаборатория фантастики может как и в прошлом (и в 2010-ом)...
В начале мая в рамках проведения "Интерпресскона-2012" будут названы лучшие художники в двух номинациях: "Обложка" и "Внутренние иллюстрации".Лаборатория фантастики может как и в прошлом (и в 2010-ом)...
Из oффлайн-интервью Бориса Стругацкого:
Доброго вам здоровья, дорогой Борис Натанович!
Если Вам не трудно, расскажите нам о жизни ленинградского отделения «Детлита».
Расскажите, пожалуйста, нам об Илье Варшавском, о Георгии Мартынове, о Севере Гансовском, о Вадиме Шефнере, о Георгии Гуревиче, о Геннадии Горе и прочих ленинградцах...
Вы, небось, понимаете, если Вы нам не расскажете, то уже никто не расскажет, увы.
Я не жду пакостей и сенсаций (тем паче, что Вы и на то и на другое не способны), я просто хочу ещё раз прикоснуться к любимому далёкому времени.
Расскажите нам что-нибудь хорошее про своих ленинградских друзей, типа: «Привёз нам раз Гуревич из монреальского «Экспо-67» авторучку. Повернёшь её так, – женщина на ручке одетая. А повернёшь её этак, – совсем голая!»
Расскажите о своих былых друзьях, пожалуйста, Борис Натанович, покуда у Вас есть время и возможность.
Я, честное слово, не писака из жёлтой прессы, но последние 30 лет просто советский инженер.
Дмитрий
Аврора, Канада - 04/10/11 12:49:32 MSK
То есть, Вы просите меня написать что-то вроде Малого Мемуара. Боюсь, я на это не способен.
Илья Иосифович Варшавский был остроумен, всегда доброжелателен и бесконечно талантлив. Ему нравилось возиться с нами, молодыми. Мы называли его Дедом, – в том числе и в глаза, – он не возражал. На морском жаргоне Дед это стармех, а он был специалистом по судовым двигателям. Он был большой любитель посидеть за рюмкой чая в хорошей компании, и он был замечательный пародист. Помню, я подарил ему наш сборник ДР+ТББ с надписью: «Философу и хохмачу Илье Иосифовичу – приличное, вроде, сырье для пародий».
Георгия Мартынова я знал плохо. Он был, как сказал бы Уоннегут, «другого карасса». Мы над ним посмеивались, когда он на заседаниях секции возглашал: «Мецтаць! Надо мецтаць!» Мы ведь все как один были скептики и вовсе не считали, что главная задача фантаста – мечтать. Думать и писать правду, – так мы это формулировали для себя. Впрочем, Мартынов был очень популярным детским писателем, и я помню, как за десять лет до того я безуспешно охотился за его сборником «220 дней на звездолете».
Гансовский и Гуревич не были ленинградцами. Гансовский был безусловно одним из талантливейших писателей нашего поколения, а Георгий Гуревич – один из самых эрудированных. (АНС называл его Гиша – в честь доисторического гигантского зверя гишу, пожирателя слонов, из романа Ефремова.)
Шефнера я очень любил и уважал, – и как прозаика, и как поэта. Но мы были людьми разных поколений и почти с ним не общались, – разве что в доме творчества забегали друг к другу поздним вечером в поисках пачки сигарет (или, тоже бывало, бутылочки – в долг, до завтра).
Геннадий Самойлович Гор много лет подряд возглавлял у нас секцию научно-фантастической и научно-художественной литературы. Он был для нас НАЧАЛЬНИКОМ, и мы общались с ним, как правило, только официально. Он был великий эрудит, блистательно разбирался в живописи, но фантастику, на мой взгляд, писал скучноватую. Впрочем, АНС был о нем гораздо более высокого мнения...
Такие дела.
Конец Малого Мемуара.
*****
Кстати, несколько лет назад я задавал подобный вопрос Борису Стругацкому о Георгии Мартынове, БНС тогда ответил тоже не слишком развёрнуто (см.: http://lartis.livejournal.com/650106.html).
